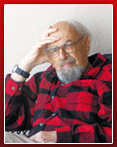Глава 53 |
Глава 53
Этой полной женщине 52 года. Скорая помощь доставила её с подозрением на инфаркт миокарда. Инфаркта не оказалось, боли ей сняли, она отдохнула, у меня заканчивался рабочий день, теперь можно спокойно побеседовать.
- Таисия Степановна, расскажите, пожалуйста, как у вас начало болеть сердце, как с самого начала было?
- Началось это в 22 года, с беременности, токсикоз был очень сильный. Но и до этого я была какой-то слабенькой. Потому что видимо сказывалось, я во время войны была здесь, в Сталинграде, и все ужасы, все страхи, конечно, перенесла. Может быть и отсюда все так. Но в основном все началось с токсикоза. Потом родила, было ничего. Потом бывали слабости. Слабость такая, что не могу в баню пойти. Прихожу, искупалась – мне плохо. Как плохо? Ну, не то, что сейчас, когда давит, а просто с сердцем плохо: мурашки, мурашки, мурашки и падаю. И я уже себя знаю, я заранее опускаюсь, чтобы не разбиться. Пониже опускаюсь. Ну потом бывали периоды, что вроде и ничего. Ну а потом годы какие были. Я вышла замуж в 47-м году. Ну и можно сказать, у нас с первых дней не очень чтобы хорошо. Он такой был товарищ, вроде не пил, не курил, но всякие слова, там ревности всевозможные, ненужные, и все у меня началось. А потом еще хуже. Сидит, ножи точит. Знаете, все это как на сердце? А сколько раз, бывало, угрожал, и детям было плохо, судорогой порой сводило. Ну и у меня были такие приступы, что ноги уже холодели, уже сердце отказывало, все. В ночь у меня несколько раз останавливалось сердце, я лежу и слышу: останавливается, боли никакой нет, мне просто плохо, я начинаю холодеть, ноги и все. Мальчик положит мне грелку к ногам, какой-то произойдет толчок, и сердце опять заработает. И на работе знали, как я живу, и добились мне путевки, и я отправилась. Ну, естественно, муж меня сопровождал этими самыми словами, мол ты вот едешь, то да се, а меня почти полумертвую в вагон посадили. Так я первый раз в жизни приехала в Кисловодск. Вначале мне было очень плохо – перемена климата, все. А потом стало мне лучше, лучше, и я забыла, где сердце. А потом у него по работе был случай, он сидел, потом из тюрьмы вышел, опять продолжалось все. Затем я хлопотала квартиру, ходила много, нервничала, все от него скрывала, он такой человек был, что ничего не мог сам добиться. А все мне приходилось. Ну и все это на нервах. Ну, а потом в конечном итоге в 60-м году мы уже с ним развелись. Ну последние годы были страшными, просто страшными. Что он делал, это невозможно передать. Я сказала, вот оставь мне четыре голые стены и детей, все увези, все-все, чтобы тебя здесь больше не было. Он так почти и сделал. «Икарус» подогнал, все взял и увез. И ради Бога. Я еще не знаю, как я тогда пережила, у меня, вы знаете, мозг кипел. Кипел мозг, потому что он такое сделал. Ну и конечно, сердце у меня было – и говорить не приходится.
Ну а потом немножечко все-таки успокоилось все, я и выписала его из квартиры, и не так уж он меня беспокоил, и мне стало немножко получше. А потом был такой нелепый случай. Я морила тараканов, я их совершенно не могу выносить. Стала их морить хлорофосом и, видимо, нанюхалась сама. Надышалась этими парами. Мне вызвали скорую, а я уже совсем умираю. Ну там уколы, кислородные подушки, кое-как меня отходили. Давление крови первой степени. После этого у меня был случай: вот такой же кол, как сейчас, под левой лопаткой появился. Вступил и такие колики в сердце, что я еле до постели дошла. Опять вызвала скорую, там больничный. А потом мне сказали, что у меня блокада, полная блокада левой ножки пучка Гиса, получилось у меня так.
А чсерез год, мне тогда 41 год был, я по-женски оперировалась. У меня фибромиому нашли и удалили матку и один придаток. После этой операции я такая хорошая была, очень поправилась, полная такая была, белая, свежая. Чувствала я себя просто отлично. Правда, после операции было мне там и с сердцем плохо, но все это я перенесла. И давление у меня было нормальное – 120/80 и никогда не повышалось, не понижалось, ничего.
Потом я похоронила мать, очень пережила, у неё рак желудка, и на моих глазах все это было. И вот здесь у меня немножко с давлением пошатнулось и с сердцем тоже. А тут вскоре у меня опять кол этот под лопаткой, и я пошла пожаловаться терапевту. И никогда приступов в животе у меня не было. Ну, чувствовала, я, конечно, ощущала что-то неприятное в желудке, но резкого – никогда. А терапевт послала меня к хирургу. А они меня раз и на операционный стол, вечером сразу. Я не хотела, во-первых слабая я еще была, после смерти матери ... но прооперировали. И чувствуется, внесли инфекцию. Потому что, когда меня оперировали, почему-то все заходили в операционную, кто не идет по коридору, заходят. Зайдут, посмотрят, выйдут опять. Потом пришлось второй раз резать, у меня полный живот гноя, и, наверное, месяц так каждый день там ковырялись, больше уже не зашивали, до самозарастания. И вот тут у меня, видимо, был инфаркт. Они мне тогда ничего не сказали, я была очень слабая, нервная. А тут умерла одна женщина, соседка из нашей палаты. Как только её схватили вывозить из палаты, она так кричала, а я спряталась в туалет. А женщина заходит и говорит: «Ну вот и все». Как все, чего все? «Умерла» - говорит. И я вышла из туалета, а она вот тут на каталке лежит и накрыта вся простыней. И моментально я легла, и мне плохо, плохо, я чувствую, у меня сюда к сердцу все идет, холодеет в ногах и поднимается, и я кричу: сестричка, сестра мне плохо! Я умираю! А никто не обращает внимания. Я кричу: -Ну вот я уже совсем умираю! Ну, пожалуйста, ну спасите вы меня! Тогда приходил молодой врач, и вот он посмотрел пульс, и тут уже начали мне уколы, то да се. Но пока уколы, пока все, тут у меня адская боль в груди. Вся грудь спереди, такая была боль, я даже слова не могла сказать. Невозможная была боль. Ну потом я лежала, не помню уж подробностей, перевезли меня в другую палату, элениум мне дали, чтобы я больше спала, еще что-то давали. И элениум, элениум, я сплю и сплю. Ну, естественно, перевязки они мне делали все на месте. А потом они меня выписали, в поликлинику я ходила сколько с этим швом, лигатуры какие-то не прижились, свищ был. А потом третья была операция, продолжалась больше трех с половиной часов, кишечник что ли там сросся, я не знаю, после этого дней десять они вообще никакой пищи мне не давали, я лежала без движения.
И стала я плохо оправляться. Они все ко мне ходили – и врачи, и зав. отделением, масло специально давали. Но потом они это дел о как-то упустили, и у меня произошел запор. И мне стало плохо с сердцем. Плохо, чуть ли ни сознание теряю. Все подпирает от живота и развивается прямо удушье. Мне клизму одну, мне другую – ничего не помогает. А заведующая сказала сестричке: «Дайте ей таблетку крушины», а сама даже не подошла. Я говорю: «Мне плохо, я умираю, мне уже все, все все плохо, все душит. И никто, и ничего. Потом я уже всех в палате стала просить, больные, пожалуйста, сходите к заведующей, ну пусть она ко мне подойдет, ну что же мне делать? Я уже пыталась и сама, я вся как палач была в крови, но ничего не могу сделать. А потом уже там уборщица была, такая хорошая женщина, она пошла и пригласила сестричку. Она приходит, я говорю: «Ниночка, ну спаси ты меня, пожалуйста, я уже никак не могу, ну что же никто не подходит ко мне». Она одела перчатки и уж кое как все из прямой кишки достала, там был просто, ну кирпич. Если бы она этого не сделала, я бы там и умерла. Потом это все уже разнеслось по всей больнице, там же быстро все разносится, как эта сестричка мне жизнь спасла.
После этого я их сколько раз спрашивала, будет четвертая операция? Все так вот отвернутся, никто не дает гарантии. Но свищ зажил, а боли, слабость все-таки остались. Видно, гной там внутри все-таки есть.
И потом, откровенно говоря, я после каждой операции принимала свои лекарства: мед, алоэ и кагор. А на этот раз я навела мед, алоэ и спирт чистый медицинский. Вот это все меня и поставило на ноги. Но все-таки после второй операции я еще чувствовала какую-то жизнь в организме, а уж после третьей – все. Во-первых, у меня давление нарушилось: то повысится, то понизится, такая в организме стала у меня неурядица. А сердце, климакс тут у меня начался, в 47 лет, да так начался, что у меня прямо мозг отключался. Вот как будто меня гипнозом кто опутывает. Подсознание будто работает, а сознания нет. Начались эти приливы, и очень сильные. Вот так ошпаривало и по ночам, лягу, и вдруг как ошпарит, куда у меня девается сон, готова с себя все снять, рубашку, так тяжело. А сердце, бедное, в это время так не успевает работать, так колотится. А теперь сердце как будто устало. Вот ошпарит меня, а оно, бедное, трепыхнется, и вот чувствую, еле-еле справляется. И сама я устала, и сил больше нет. А сердце то стукнет, то толчок, то остановится, то другой раз так зачастит, аж к горлу подскакивает, и я пугаюсь: «Боже мой, ну все, мне конец». Начинает колотиться внезапно, а потом все тише и тише и постепенно успокаивается. Боли при этом нет, тут уж страх вовсю. Нет ознобов в это время нет и в туалет не тянет. Вот такое ощущение, будто оно на веревочке у меня висит. Сплю, чего нибудь повернусь, оно сразу: бах, бах, бах, ну словно оно подвешено. А то, бывает, остановится ночью. Сколько раз. Так страшно, с трудом заставляю себя проснуться, чтобы не умереть во сне. Ничего не слышно, будто его и нет, и тело все холодное. Когда совсем уж ничего не слышу, я встаю, иду на кухню, навожу пустой чай, попью немножко, посижу, слышу, опять зашевелилось чуть-чуть.
А вот в этом году была я в доме отдыха. Я вам говорю, что я по натуре очень энергичный товарищ. Вот плохо мне, я раскисаю и все. А чуть-чуть мне полегче, и я вовсю, и по домашним делам и так. Так я там так отплясывала цыганочку, и барыню тоже. Правда, года дают знать, иногда передохну, но ведь плясала ведь. Я там всю молодежь перетанцевала. Даром, что толстая. У меня две дочки под тридцать лет, так они так не станцуют. Может быть, я там немножко переборщила, но я ведь с детства это. Папа у меня играл, а я вечная плясунья. Я и в Каунасе жила, когда дети у меня народились, маленькие дети, а я все на танцы бегала. Я алкаш была танцев. Представляете, я ходила там в Дом офицеров, так все танцы и бальные и все. Там ведь так красиво. Так я же ни одного танца не пропускала. Я хоть до шести утра буду танцевать. А потом туфли в руки и пошла. Вот такая я, понимаете? И годы были тяжелые, и все равно. Я и сейчас ведь, старая дурочка, хожу пою в хор. Я сейчас работаю от автоколонны бухгалтером и хожу в наш клуб. Вот видите, какие у меня контрасты. Но на сей раз что-то произошло, такое у меня впервые.
Мы были в гостях. Организовали там чай. Может быть я пергрузилась на работе, а может я переела. Я мяса поела, очень вкусно было приготовлено, выпила за здоровье хозяина, ну чуть-чуть. Вот столечко, водки, ну покушали плотно. Я люблю поесть. Уж если в еде себе отказывать, так это последнее дело. Зачем тогда и жить? Оттуда мы шли вечером в гору и увлеклись еще с одной парой, и как-то мы побыстрее пошли. И у меня вдруг как закололо, вот сюда, прямо в сердце, и не передохну, и такие боли, ну не могу идти. Остановились, постояли, так тяжело все. Ну наверх поднялись, там такси, приехали домой, вроде все нормально. Утром я встала, форточку открыла, душно немного мне показалось, снова легла под легким одеялом, опять задремала, а потом встала на работу собираться и ой, такие колики в спину, не могу повернуться, вздохнуть не могу. Я подумала, что простыла. Я ему говорю, немножко разотри спину. Он так и сделал, потер, потер, я встала, пошла, а потом как-то нечаянно повернулась, и у меня опять колика, да сильная, да вторая, и я не дыхну. И только шевельнулась, а у меня протв сердца кол такой и сюда вперед (под ключицу). И все, ой, мне плохо! Я едва до постели дошла, а лечь не могу. И такая сильная боль, я как расплакалась. Только шевельнусь, а у меня колики, ну всю сковало. И я не знаю, как я легла, он видит уже чего-то серьезное, а потом как стало меня чего-то душить, и все сковывать, и не вздохнуть. Именно с дыханием, вдохну – а у меня колики. Если затаила дыхание – легче вроде, а вот чуть только вздохну, ну, мочи нет от боли. Я говорю: «Кира, мне плохо, я даже дышать не могу, я умираю, все!». Ну вызвали скорее скорую, приехала она, укол сделали, то, се, валидол я взяла, корвалол выпила. Пока я полежала, мне немножко полегчало. Она говорит: «Ну все, приступ стенокардии кончился. Но если только повториться, вызывайте кардиологическую». Они уехали, прошло какое-то время, и они опять открылись. Ну не такие сильные, но давящие-давящие и опять слева. Вызвали. Они посмотрели, кардиограмму сделали, еще уколов понаделали там всяких и уехали. А мне полегче стало, и я уже не могу лежать, у меня бока болят. У меня так болела спина, как будто я сто лет пролежала. Уже к вечеру я встала, посидела в кресле. Ну слабость, слабость, пот. А на следующий день, в воскресенье, к вечеру, я опять вызвала скорую. В понедельник я вызвала врача на дом: на работу я не могу. Пока я посидела, позвонила, я уже устала, потом легла, и уже к вечеру мне стало хуже. Боли в сердце были весь день, но не сильные, а вот к вечеру они у меня усилились. И так усилились, что не могу, прямо сердце выпирает сюда наружу, распирает все сердце, и боли, такие боли и не вздохнуть и даже не дотронуться. Опять была такая скорая, потом они сказали, вызывайте другую, кардиологическую, раз сняли кардиограмму, врачу не понравилось, окончание говорит не такое, а потом второй раз сняли, он говорит: «Рисует эту чертову блокаду, а что за ней, ничего неизвестно», но решили забрать в больницу.
Вот еще один вариант анамнеза при неврозе, климаксе и ожирении. Больная весит 98 кг при росте 164 см. Последнее обострение больше всего похоже на шейно-грудной радикулит, вероятно, действительно, была простуда, сильно потеет, легко могло прохватить. Атеросклероз только начинает себя проявлять, но ведь ей только 52 года и ожирение, которое она никак не соглашается считать болезнью, вероятно, заложило основу для многих заболеваний в будущем.
Со многих страниц истории народов встают голод и недоедание. На протяжении жизни поколений они были привычными и обыденными. Для нас – это уже прошлое. Для многих других голод и сегодня остается трагической реальностью. Навыки и привычки, явления культуры и быта, языка и скусства формировались на этом фоне.
Слово «поправился» является омонимом, им обозначают и выздоровление от болезни, и прибавку массы тела. «Худой» - это и плохой, и тощий, и в слове «похудел» - первое значение звучит очень четко. Недаром в шутливой классификации ожирения 1 стадия обозначается, как вызывающая зависть.
Прямая связь здоровья и полноты прочно вошло в сознание людей. Гарганьтюа Рабле и Тарас Бульба Гоголя, Санчо Панса Сервантеса и Ламме Гудзак Шарля де Костера, Кола Брюньон Ромена Роллана и Партос Александра Дюма – разве случайно все эти здоровяки изображались толстяками? Исстари писатели и художники прославляли полноту, как признак здоровья и силы. Вспомните Флору и Марию Магдалину Тациана, Данаю Рембрандта, умирающую Клеопатру Гвидо Рени, вспомните фигуры на полотнах Рубенса.
Наши родители знали голод гражданской войны, мы - Великой Отечественной. Я прожил всю блокаду в осажденном Ленинграде и хорошо помню «новую», появившуюся на глазах болезнь с красивым названием «алиментарная дистрофия».
Переход к изобилию и доступности углеводов и жиров, совершившийся на протяжении столь короткого промеждутка времени, застал нас психологически неподготовленными. Вспоминая собственное недоедание, мы стараемся компенсировать его в питании наших детей и близких. В 1913 году в России на душу населения приходилось около 8 кг сахара в год, а 1975 г. – 41 кг. Кулинария вошла в моду. Журналы и газеты, книги и листки календарей, открытки и буклеты наперебой почуют нас все новыми рецептами пирогов, закусок, кондитерских изделий.
Аппетит не критерий. Это инстинкт, сохранившийся с тех времен, когда единственным способом выживания было накопление избыточных калорий в жировой клетчатке. Выраженность этого инстинкта поддается формироваванию, и особенно в детском возрасте. И как часто мы формируем его не в ту сторону.
- Почему мой Витя ест меньше, чем соседская Леночка? Вон она какая полненькая. А ты худющий, смотреть страшно. Не хочешь хлеба, на тебе пирожок. Даешь кашу и получишь конфету. Нельзя вставать из-за стола, не доев. Все, что на тарелке, должно быть съедено. А куда же мы остатки денем? Что значит, не хочу? Разве можно выбрасывать еду, в неё вложен труд многих людей. Ну давай еще, ложечку за папу, ложечку за маму ...
М. Танич писал: «Почему то бабушки считают, что важнее самых важных дел, мальчик, только что проснувшись, все бы ел, и ел, и ел». В «Литературной газете» недавно приводился рассказ начальника пионерского лагеря: «- Вы же знаете, что я отчитываюсь за них. Принял смену – взвесил детей. Закончил смену – взвесил детей. И не дай бог, если кто-нибудь хоть килограмм потеряет. Вы же сами затаскаете меня по своим заседаниям, осудите на всех уровнях. Дети должны расти и поправляться».
Появился культ еды. Наши выпускники никогда не видели алиментарной дистрофией, но знакомы с подагрой. А частота ожирения растет. 26% взрослых в нашей стране страдают ожирением и еще у 24% имеется избыточная масса тела. А ведь при избытке массы на 25% смертность увеличивается на 20%, при избытке на 50% смертность вырастает на 80%. Ожирение способствует развитию атеросклероза, диабета, гипертонической и желчно-каменной болезней, снижает резистентность организма, ускоряет декомпенсацию при сердечных и легочных болезнях, сокращает длительность жизни. Gula punit Gulax (обжорство карает обжору) – эту пословицу привел в «Отверженных» В. Гюго. Ожирение стало социальной болезнью.
Научно-технический прогресс уменьшает физические нагрузки, создает условия для распространения гипокинезии, на этом фоне переедание становится еще более злокачественным фактором. Говорят, что Бог проклял первых людей, заставив их в поте лица добывать хлеб насущный. А может быть это не было проклятием, просто господь занимался первичной профилактикой атеросклероза? Увы, потомки Адама стали меньше потеть, и не хлебом едиными утоляют аппетит современные Евы.
Говорят, чт в каждом толстом сидит тонкий и плачет. Этого плача до поры, до времени не слышат те, кто первую степень ожирения считает признаком красоты и здоровья. Как рассказала мне эта больная: «После этой операции я такая хорошая была, очень поправилась, полная такая была, белая, свежая. Чувствала я себя просто отлично». С ожирением надо бороться как с курением, как с алкоголизмом, ибо оно тоже болезнь «слабой воли». И по распространенности, и по значимости, и по последствиям – оно не менее важно.